Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «От смерти меня, дочь советского офицера, настоятельница женского монастыря в Ивано-Франковске спасла»


Из 40 писателей, которые по количеству запросов в поисковой системе Google сегодня лидируют, русских всего пятеро — Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов и... Светлана Алексиевич. Да, да, причем по этому показателю единственная в великолепной пятерке дама не только всех своих мейнстримовских современников обошла, но и Достоевского, портрет которого висит над письменным столом в ее минской квартире. Цифирь весомая, грубая, зримая — такую проигнорировать трудно, она заставляет считаться с собой даже скептиков, впрочем, о литературе в связи со Светланой Александровной на постсоветском пространстве гораздо реже говорят, чем о политике.
Ее самый известный цикл «Голоса Утопии» («У войны не женское лицо», «Последние свидетели», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва» и «Время секонд хэнд») из сотен человеческих голосов собран, как римские мозаики из смальты: по отдельности — всего-навсего плавленые кусочки стекла, а вместе — поразительные, пережившие тысячелетия полотна.
На автора этих книг некоторые ее собратья по перу свысока посматривали: это же, мол, журналистика, сырые диктофонные расшифровки — тем сильнее в октябре прошлого года они возбудились, когда белорусской писательнице Нобелевскую премию по литературе присудили — за, цитирую, «многоголосое звучание ее прозы и увековечивание страдания и мужества».
В России и Беларуси, что интересно, лишь несколько коллег лауреатку поздравили и искренне ее успеху порадовались, а московские снобы картинно глаза закатывали: дескать, как можно было входившего в шорт-лист Харуки Мураками «прокатить» и отдать премию тому, кто «человек-ухо» себя называет, а самые именитые исходили желчью и слюной брызгали: «Это «харчок» в русскую литературу»... В общем, как констатировала интернет-тусовка, «премия изобретателя динамита взорвала литературное сообщество».
Что ж, не реагировать на такие укусы Светлана Алексиевич еще с тех пор научилась, как в суд за книгу «Цинковые мальчики» ее потянули. Истцами тогда, в 1993-м, потерявшие в Афганистане сыновей матери выступили, а также инвалиды-«афганцы», оставившие на чужой земле не только руки-ноги, но и веру в справедливость. Сначала эти люди горько плакали перед писательницей и умоляли об их горе всему миру поведать, а потом в своих исковых заявлениях утверждали, что Светлана Александровна их свидетельства полностью исказила и светлые образы героев очернила.
На суде скорбные матери сидели, выставив перед собой портреты сыновей в траурных рамках, и так, чтобы не слышал судья, но предельно отчетливо для ответчицы оскорбления в ее адрес отпускали. За Алексиевич тогда батюшка вступиться посмел, который погибших «афганцев» по ночам отпевал (несчастные женщины так боялись властей, что провести церковный обряд тайно просили). Думаете, святого отца услышали? Нет, к нему руки потянулись, чтобы крест сорвать: ирод, дескать, «дьявола» пришел защищать!
На них, травмированных советской действительностью, Алексиевич зла не держала — жалела, понимала, кто нашептывал истцам, что писательница гнилому Западу за два «мерседеса» и долларовые подачки продалась. Это старая советская традиция — народу многотомные сочинения кондовых «совписов» впаривать, а неугодных, слишком ершистых и независимых если не в расход, то хотя бы на скамью подсудимых отправлять. Синявского и Даниэля посадили, Пастернака судилищу подвергли, Солженицына грязью облили, правда, результат обратным запланированному оказался. Помните, как во время процесса над Бродским Анна Ахматова сказала: «Какую биографию делают нашему рыжему!»? В случае со Светланой Александровной в провидческой фразе лишь одно слово достаточно изменить: не рыжему, а рыжей.
Перед этим непреложным фактом споры о том, к низкому или высокому жанру книги Алексиевич относятся, есть в ее текстах динамика или нет, на энный план отступают. Согласитесь, обычному читателю на изящество стиля и красоту слога, по большому счету, плевать, хорошим, значительным того писателя он считает, кто бередит душу, какие-то ключевые вопросы бытия поднимая, кто беспокоит, жить как-то иначе заставляет, а в постсоветских условиях это еще и тот, кто людям некую коллективную психотерапию предлагает, которая от исторической травмы позволяет избавиться, проговаривая вслух то, о чем вспоминать мучительно больно и стыдно.

Книги Светланы Александровны читать трудно, но я категорически не согласен с тем, что ощущение безысходности, безнадеги они оставляют. Надежда в них есть, просто не в виде хеппи-энда, поскольку наша жизнь — не голливудский кинофильм. Когда у писательницы рано, всего в 34 года, младшая сестра умерла, родного человека воскресить Алексиевич не могла, но ее маленькой дочери мать заменила, на ноги поставила, потом ей квартиру приобрела... Заодно подруге квартиру купила, а родителям, которых из чернобыльской зоны перевезла, дом построила. Она спешила отдать окружающему миру свою любовь и заботу, чтобы снова не опоздать, — теперь вот собирается интеллектуальный клуб в Минске открыть и людей со всемирно известными именами туда приглашать, способных расширить кругозор белорусской молодежи...
Несмотря ни на что, жизнь продолжается, и это хорошая новость!
«Думаю, украинская кровь в моем характере перевешивает — я не типичная белоруска»
— Светлана Александровна, я очень рад вас приветствовать, можно сказать, на родине...
— ...ну да, конечно...
— ...потому что родились вы в Ивано-Франковске, тогда Станиславе...
— Станиславе (с ударением на «и». — Д. Г.) — по-моему, так говорят... В Украину, несмотря на мой такой напряженный сейчас ритм, я при возможности всегда еду.
— Ваш отец — белорус, мать — украинка, как две эти крови в вас уживаются? Мирно?
— Думаю, украинская в моем характере как раз перевешивает — я не типичная белоруска.
— А чем украинцы от белорусов отличаются?
— По-моему, они более энергичные, способны увлечь, за собой повести — вот у нас, например, в семье лидером мама была.
— Белорусы, мне кажется, добрее, покладистее, теплее...
— Да, думаю, они такие, но это не мешало им очень жестокую партизанскую борьбу начать, так что все относительно.
— Вы в семье сельских учителей выросли, а что ваши родители преподавали?
— Мама — немецкий язык, а отец — историю.
— Любовь к этим предметам они вам привить сумели, вы их в школьные годы хорошо знали?
— Историю — да, а вот о немецком языке сказать этого не могу, и я даже удивляюсь, почему мама не заставила меня его по-настоящему выучить. Очень жаль — наверное, культура того времени по умолчанию предполагала, что это не нужно.
— Практически все детство, насколько я знаю, вы в Винницкой области провели...
— ...в Немировском районе, в селе у бабушки — я ее очень любила. Наверное, она самым дорогим для меня человеком была.

— Из своего украинского детства что-то запомнили? Какие картинки сразу перед глазами возникают?
— Ну, картинки... За огородом долина у нас начиналась, потом лес, и там черешни росли — таких я нигде больше найти не могу.
— И яблок, наверное, тоже?
— Яблоки почему-то не запомнились, а вот черешни... Еще знаменитые волы в память врезались, и запах пыли, и эта безумная грязь после дождя...
— Сегодня на российских каналах часто услышать можно, как бандеровцы (причем их бендеровцами называют) убивали людей, мучили и разве что детей не ели, а вас, слышал, они спасли...
— Да, и я очень хочу еще раз в Ивано-Франковск поехать, потому что именно там это произошло. Отец в летной части служил, мама — библиотекарем: даже не знаю, работала ли она в то время, потому что я совсем маленькой была. Так получилось, что нас обокрали, и вдобавок ко всему русских офицеров в Западной Украине, конечно же, не любили...
— Ну, с этим там до сих пор как-то не складывается...
— Вот-вот, и поэтому местные жители ничего им не продавали, а я слишком мала была и то, что в армейской столовке давали, есть не могла. Ребенку же молоко нужно, и я заболела: у меня и рахит был, и еще что-то — в общем, умирала, а моего отца знать надо. Он очень интересный был человек: на войну со второго курса Коммунистического института журналистики ушел, в компартию под Сталинградом вступил и непоколебимым коммунистом до конца оставался, и вот папа с друзьями к женскому монастырю отправился, и его каким-то образом туда, за высокий каменный забор, перебросили. Он к настоятельнице пришел (хотя за ним монашки бежали, остановить пытались), на колени перед ней встал... «Вы служите Богу, — сказал. — Во мне, понятное дело, врага видите, хотя я себя таким не считаю, но у меня ребенок умирает». Настоятельница не сразу ему ответила, после паузы произнесла: «Чтобы мы тебя тут больше не видели, а жена пусть приходит». Это два или три месяца продолжалось: каждый день маме там пол-литра козьего молока давали, которым она меня отпаивала, и меня спасли.
Я обязательно снова туда поехать должна — есть какие-то вещи в жизни, которые, несмотря на все наши успехи и ритмы, надо делать, — все-таки мы люди. Когда японцы фильм обо мне снимали, мы там побывали. В том монастыре сейчас семинария... Конечно, о настоятельнице никто уже ничего не знал, а нас, как всегда, сроки поджимали, но если пару дней буквально потратить, ее могилу, думаю, можно найти. Надеюсь, когда-нибудь у меня это получится.
— Я хорошо помню, как книга «У войны не женское лицо» появилась — для советской военной литературы совершенно нетипичная. Она, в общем-то, вас и прославила, огромный общественный резонанс вызвала, а почему вы именно за эту тему взялись?
— Ну, я же в деревне выросла, а там в послевоенные годы одни женщины жили. Как-то мало мужчин помню — разве что очень старых: остальные на фронте или в партизанах погибли, и вот женщины вечера за разговорами коротали. Потрясающе они говорили — книгу такого накала, как их исповеди, я еще не написала, но хотела бы. Я эти посиделки очень любила, они гораздо интереснее мне казались, чем книги, которыми наш дом был полон, — это запомнилось.
Окончив факультет журналистики, я долго, чем бы заняться, искала. Беллетристика как-то меня не увлекала, казалось, что той температуры, боли жизни, в ней нет, и тут книга «Я из огненной деревни» появилась, написанная тремя белорусскими писателями во главе с Алесем Адамовичем, — он главный автор там был. В ней рассказы людей собраны, чьи деревни немцы сожгли (в Белоруссии таких особенно много), а они как-то случайно живы остались, и когда эту книгу прочла, подумала: вот она, новая литература, вот то, что я ищу, а почему война? Да потому, Господи, что до сих пор воюем, до сих пор парады военные и разговоры о войне, а тогда этого было еще больше.

— Еще много живых очевидцев оставалось...
— Да, и я думаю, что... Жизнь художественна сама по себе, и, как ни странно, наиболее выразительно, убедительно человеческое страдание — это такая темная сторона искусства, и она, конечно, меня очень влекла.
«Умирая, отец попросил, чтобы партбилет ему в гроб положили. Идея лучших, достойных людей сожрала...»
— Несколько лет назад в Комарово под Санкт-Петербургом у Даниила Гранина я гостил. Они вместе с Алесем Адамовичем «Блокадную книгу» написали, и Даниил Александрович рассказывал мне о том, что в эту документальную хронику не вошло, — о жутких случаях людоедства, о том, как матери своих детей ели, и, наоборот, надрезали себе вены и кормили детей своей кровью... Он говорил: «Мы не могли это включить в книгу просто из соображений человечности». У вас были моменты, о которых в книге «У войны не женское лицо» вы сознательно умолчали?
— Дело не в человечности — это иначе называется. Каждый из нас ко времени, как собака на цепи, привязан, человек — заложник суеверий своей эпохи, представлений о границах добра и зла. И Гранина, и Адамовича я хорошо знаю и думаю, что это в них цензор сидел, писатели их поколения заложниками идеализма были, который в них, как ни странно, присутствовал... Удивительным образом с одной стороны лагеря соседствовали, а с другой — идеализм...
— А все вместе идиотизм, правда?
— Я бы так не сказала — трагизм, скорее... Называть это идиотизмом, по-моему, высокомерно, тем более через 100 лет после утверждения советской власти, и употреблять по отношению к ним слова «идиотизм», «совок» я не могу. Отца моего возьмите: умирая, он попросил, чтобы партбилет ему в гроб положили, и всегда со мной спорил, доказывал, что социализм испортили.
...Понимаете, они верили, и вообще, идея лучших, достойных людей сожрала, там все не так просто. Кстати, этот трагизм я всегда в книгах передать старалась и третейским судьей никогда при этом не выступала — у меня, как у Достоевского, каждый свою правду кричит. Я не судья, я просто время собираю, а оно очень разное. Заявить, что люди, которые 50-100 лет назад жили, ничего не понимали, а ты такой умный, легко, но, думаю, наши дети и внуки точно те же слова о нас скажут. Мы тоже не очень красиво и с Путиным выглядим...
— ...и без Путина...
— ...и с вашими вождями, и с Лукашенко — мы же все понимаем, но молчим. Происходит то, что уже было, — это время секонд хэнд, ничего нового.

— И все-таки многое из услышанного вами в книгу не вошло?
— Нет, все, что важным считала, там есть, а если что-то в советское время не вошло, — допустим, цензура выбросила! — восстановила, вернула, вплоть до того, что убрала сама. Да, в чем-то перестраховывалась, потому что я тоже человек своего времени, и освобождение от этого не таким легким и простым было — вы же понимаете, что мы не в вакууме рождаемся... Я любила отца, любила мать, мне наши разговоры нравились, и, конечно, потом вырваться из этого непросто. Ложь ведь — она не такая...
— ...явная...
— ...торчит, мол, и все — ложь и в нас в смеси с любовью разлита, с генерацией жизни входит, она очень сложно в жизнь завернута.
Из книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».
Из того, что выбросила цензура.
«Я ночью сейчас проснусь... Как будто кто-то ну... плачет рядом... Я — на войне...
Мы отступаем... За Смоленском какая-то женщина выносит мне свое платье, я успеваю переодеться. Иду одна... среди мужиков. То я была в брюках, а то иду в летнем платье. У меня вдруг начались эти дела... Женские... Раньше начались, наверное, от волнений. От переживаний, от обиды. Где ты тут что найдешь? Стыдно! Как мне было стыдно! Под кустами, в канавах, в лесу на пнях спали. Столько нас было, что места в лесу всем не хватало. Шли мы растерянные, обманутые, никому уже не верящие... Где наша авиация, где наши танки? То, что летает, ползает, гремит — все немецкое.
Такая я попала в плен. В последний день перед пленом перебило еще обе ноги... Лежала и под себя мочилась... Не знаю, какими силами уползла ночью в лес. Случайно подобрали партизаны...».
***
«У меня было ночное дежурство... Зашла в палату тяжелораненых. Лежит капитан... Врачи предупредили меня перед дежурством, что ночью он умрет. Не дотянет до утра... Спрашиваю его: «Ну как? Чем тебе помочь?». Никогда не забуду... Он вдруг улыбнулся, такая светлая улыбка на измученном лице: «Расстегни халат... Покажи мне свою грудь... Я давно не видел жену...». Я растерялась, я же еще даже не целованная была. Что-то я там ему ответила. Убежала и вернулась через час.
Он лежал мертвый. И та улыбка у него на лице...».
***
«Под Керчью... Ночью под обстрелом шли мы на барже. Загорелась носовая часть... Огонь полез по палубе. Взорвались боеприпасы... Мощный взрыв! Такой силы, что баржа накренилась на правый бок и начала тонуть. А берег уже недалеко, мы понимаем, что берег где-то рядом, и солдаты кинулись в воду. С берега застучали пулеметы. Крики, стоны, мат... Я хорошо плавала, я хотела хотя бы одного спасти. Хотя бы одного раненого... Это же вода, а не земля — раненый человек погибнет сразу. Пойдет ко дну... Слышу — кто-то рядом то вынырнет наверх, то опять под воду уйдет. Наверх — под воду. Я улучила момент, схватила его... Что-то холодное, скользкое... Я решила, что это раненый, а одежду с него сорвало взрывом. Потому что я сама голая... В белье осталась... Темнотища. Глаз выколи. Вокруг: «Э-эх! Ай-я-я!». И мат... Добралась я с ним как-то до берега... В небе как раз в этот миг вспыхнула ракета, и я увидела, что притянула на себе большую раненую рыбу. Рыба большая, с человеческий рост. Белуга... Она умирает... Я упала возле нее и заломила такой трехэтажный мат. Заплакала от обиды... И от того, что все страдают...».
***
«Выходили из окружения... Куда ни кинемся — везде немцы. Решаем: утром будем прорываться с боем. Все равно погибнем, так лучше погибнем достойно. В бою. У нас было три девушки. Они приходили ночью к каждому, кто мог... Не все, конечно, были способны. Нервы, сами понимаете. Такое дело... Каждый готовился умереть...
Спаслись утром единицы... Мало... Ну, человек семь, а было 50, если не больше. Посекли немцы пулеметами... Вспоминаю тех девчонок с благодарностью. Ни одной утром не нашел среди живых... Никогда больше не встретил...».
Из разговора с цензором.
«Кто пойдет после таких книг воевать? Вы унижаете женщину примитивным натурализмом. Женщину-героиню. Развенчиваете. Делаете ее обыкновенной женщиной. Самкой. А они у нас — святые».
«Наш героизм стерильный, он не хочет считаться ни с физиологией, ни с биологией. Ему не веришь. А испытывался не только дух, но и тело. Материальная оболочка».
«Откуда у вас эти мысли? Чужие мысли. Не советские. Вы смеетесь над теми, кто в братских могилах. Ремарка начитались... У нас ремаркизм не пройдет. Советская женщина — не животное...».
***
«Кто-то нас выдал... Немцы узнали, где стоянка партизанского отряда. Оцепили лес и подходы к нему со всех сторон. Прятались мы в диких чащах, нас спасали болота, куда каратели не заходили. Трясина. И технику, и людей она затягивала намертво. По нескольку дней, неделями мы стояли по горло в воде. С нами была радистка, она недавно родила. Ребенок голодный... Просит грудь... Но мама сама голодная, молока нет, и ребенок плачет. Каратели рядом... С собаками... Если собаки услышат, то все погибнем. Вся группа — человек 30... Вам понятно?
Командир принимает решение...
Никто не решается передать матери приказ, но она сама догадывается. Опускает сверток с ребенком в воду и долго там держит... Ребенок больше не кричит... Ни звука... А мы не можем поднять глаза. Ни на мать, ни друг на друга...».
***
«Мы брали пленных, приводили в отряд... Их не расстреливали, слишком легкая смерть для них, мы закалывали их, как свиней, шомполами, резали по кусочкам. Я ходила на это смотреть... Ждала! Долго ждала того момента, когда от боли у них начнут лопаться глаза... Зрачки...
Что вы об этом знаете?! Они мою маму с сестричками сожгли на костре посреди деревни...».
***
«Я не запомнила в войну ни кошек, ни собак, помню крыс. Большие... С желто-синими глазами... Их было видимо-невидимо. Когда я поправилась после ранения, из госпиталя меня направили назад в мою часть. Часть стояла в окопах под Сталинградом. Командир приказал: «Отведите ее в девичью землянку». Я вошла в землянку и первым делом удивилась, что там нет никаких вещей. Пустые постели из хвойных веток, и все.
Меня не предупредили... Я оставила в землянке свой рюкзак и вышла, когда вернулась через полчаса, рюкзак не нашла. Никаких следов вещей, ни расчески, ни карандаша. Оказалось, что все мигом сожрали крысы...
А утром мне показали обгрызенные руки у тяжелораненых...
Ни в каком самом страшном фильме я не видела, как крысы уходят перед артобстрелом из города. Это не в Сталинграде... Уже под Вязьмой... Утром по городу шли стада крыс, они уходили в поля. Они чуяли смерть. Их были тысячи... Черные, серые... Люди в ужасе смотрели на это зловещее зрелище и жались к домам. И ровно в то время, когда крысы скрылись с наших глаз, начался обстрел. Налетели самолеты. Вместо домов и подвалов остался каменный песок...».
***
«Под Сталинградом было столько убитых, что лошади их уже не боялись. Обычно пугаются. Лошадь никогда не наступит на мертвого человека. Своих убитых мы собрали, а немцы валялись всюду. Замерзшие... Ледяные... Я — шофер, возила ящики с артиллерийскими снарядами, я слышала, как под колесами трещали их черепа... Кости... И я была счастлива...».
Из разговора с цензором.
«Да, нам тяжело далась Победа, но вы должны искать героические примеры. Их сотни. А вы показываете грязь войны. Нижнее белье. У вас наша Победа страшная... Чего вы добиваетесь?». — «Правды». — «А вы думаете, что правда — это то, что в жизни. То, что на улице. Под ногами. Для вас она такая низкая. Земная. Нет, правда — это то, о чем мы мечтаем. Какими мы хотим быть!».
***
«Наступаем... Первые немецкие поселки... Мы — молодые. Сильные. Четыре года без женщин. В погребах — вино. Закуска. Ловили немецких девушек и... 10 человек насиловали одну... Женщин не хватало, население бежало от Советской Армии, брали юных. Девочек... 12-13 лет... Если она плакала, били, что-нибудь заталкивали в рот. Ей больно, а нам смешно. Я сейчас не понимаю, как я мог... Мальчик из интеллигентной семьи... Но это был я...
Единственное, чего мы боялись, — чтобы наши девушки об этом не узнали. Наши медсестры. Перед ними было стыдно...».
***
«Попали в окружение... Скитались по лесам, по болотам. Ели листья, ели кору деревьев. Какие-то корни. Нас было пятеро, один совсем мальчишка, только призвали в армию. Ночью мне сосед шепчет: «Мальчишка полуживой, все равно умрет. Ты понимаешь...». — «Ты о чем?». — «Мне один зек рассказывал... Они, когда из лагеря бежали, специально брали с собой молодого... Человеческое мясо съедобное... Так спасались...».
Ударить сил не хватило. Назавтра мы встретили партизан...».
***
«Партизаны днем приехали на конях в деревню. Вывели из дома старосту и его сына. Секли их по голове железными прутьями, пока они не упали. И на земле добивали. Я сидела у окна. Все видела... Среди партизан был мой старший брат... Когда он вошел в наш дом и хотел меня обнять: «Сестренка!», я закричала: «Не подходи! Не подходи! Ты — убийца!». А потом онемела. Месяц не разговаривала.
Брат погиб... А что было бы, останься он жив? И вернулся бы домой...».
***
«Утром каратели подожгли нашу деревню... Спаслись только те люди, которые убежали в лес. Убежали без ничего, с пустыми руками, даже хлеба с собой не взяли. Ни яиц, ни сала. Ночью тетя Настя, наша соседка, била свою девочку, потому что та все время плакала. С тетей Настей было пятеро ее детей. Юлечка, моя подружка, сама слабенькая. Она всегда болела... И четыре мальчика, все маленькие, и все тоже просили есть. И тетя Настя сошла с ума: «У-у-у... У-у-у...». А ночью я услышала... Юлечка просила: «Мамочка, ты меня не топи. Я не буду... Я больше есточки просить у тебя не буду. Не буду...».
Утром Юлечки уже никто не увидел...
Тетя Настя... Мы вернулись в деревню на угольки... Деревня сгорела. Скоро тетя Настя повесилась на черной яблоне в своем саду. Висела низко-низко. Дети стояли возле нее и просили есть...».
Из разговора с цензором.
«Это — ложь! Это клевета на нашего солдата, освободившего пол-Европы. На наших партизан. На наш народ-герой. Нам не нужна ваша маленькая история, нам нужна большая история. История Победы. Вы не любите наших героев! Вы не любите наши великие идеи. Идеи Маркса и Ленина». — «Да, я не люблю великие идеи. Я люблю маленького человека...».
Из того, что выбросила я сама.
«41-й год... Мы в окружении. С нами политрук Лунин... Он зачитал приказ, что советские солдаты врагу не сдаются. У нас, как сказал товарищ Сталин, пленных нет, а есть предатели. Ребята достали пистолеты...
Политрук приказал: «Не надо. Живите, хлопцы, вы — молодые». А сам застрелился...
А это уже 43-й... Советская Армия наступает. Шли по Беларуси. Помню маленького мальчика. Он выбежал к нам откуда-то из-под земли, из погреба, и кричал: «Убейте мою мамку... Убейте! Она немца любила...». У него были круглые от страха глаза. За ним бежала черная старуха. Вся в черном. Бежала и крестилась: «Не слушайте дитя. Дитя сбожеволило...».
***
«Вызвали меня в школу... Со мной разговаривала учительница, вернувшаяся из эвакуации:
— Я хочу перевести вашего сына в другой класс. В моем классе — самые лучшие ученики.
— Но у моего сына одни пятерки.
— Это не важно. Мальчик жил под немцами.
— Да, нам было трудно.
— Я не об этом. Все, кто был в оккупации... Они под подозрением...
— Что? Я не понимаю...
— Он про немцев детям рассказывает. И он заикается.
— Это у него от страха. Его избил немецкий офицер, который жил у нас на квартире. Был недоволен, как сын почистил ему сапоги.
— Вот видите... Сами признаетесь... Вы жили рядом с врагом...
— А кто этого врага допустил до самой Москвы? Кто нас здесь оставил с нашими детьми?
Со мной — истерика...
Два дня боялась, что учительница донесет на меня. Но она оставила сына в своем классе...».
***
«Днем мы боялись немцев и полицаев, а ночью партизан. У меня последнюю коровку партизаны забрали, остался у нас один кот. Партизаны голодные, злые. Повели мою коровку, а я — за ними... Километров 10 шла. Молила: «Отдайте». Трое детей голодных в хате на печи оставила. «Уходи, тетка! — пригрозили. — А то пристрелим».
Попробуй найди в войну хорошего человека...
Свой на своего шел. Дети кулаков вернулись из ссылки. Родители их погибли, и они служили немецкой власти. Мстили. Один застрелил в хате старого учителя. Нашего соседа. Тот когда-то донес на его отца, раскулачивал. Был ярый коммунист.
Немцы сначала распустили колхозы, дали людям землю. Люди вздохнули после Сталина. Мы платили оброк... Аккуратно платили... А потом стали нас жечь. Нас и дома наши. Скотину угоняли, а людей жгли.
Ой, доченька, я слов боюсь. Слова страшные... Я добром спасалась, никому не хотела зла. Всех жалела...».
***
«Я до Берлина с армией дошла...
Вернулась в свою деревню с двумя орденами Славы и медалями. Пожила три дня, а на четвертый раненько мама поднимает меня с постели, пока все спят: «Доченька, я тебе собрала узелок. Уходи... Уходи... У тебя еще две младших сестры растут. Кто их замуж возьмет? Все знают, что ты четыре года была на фронте, с мужчинами...».
Не трогайте мою душу. Напишите, как другие, о моих наградах...».
***
«На войне, как на войне. Это вам не театр...
Выстроили на поляне отряд, мы стали кольцом. А посередине — Миша К. и Коля М. — наши ребята. Миша был смелый разведчик, на гармошке играл. Никто лучше Коли не пел...
Приговор читали долго: в такой-то деревне потребовали две бутылки самогона, а ночью... двух хозяйских девочек изнасиловали... А в такой-то деревне: у крестьянина... забрали пальто и швейную машинку, которую тут же пропили, у соседей...
Приговариваются к расстрелу... Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Кто будет расстреливать? Отряд молчит... Кто? Молчим... Командир сам привел приговор в исполнение...».
***
«Я была пулеметчицей. Я столько убила...
После войны боялась долго рожать. Родила, когда успокоилась. Через семь лет...
Но я до сих пор ничего не простила. И не прощу... Я радовалась, когда видела пленных немцев. Я радовалась, что на них жалко было смотреть: на ногах портянки вместо сапог, на голове портянки... Их ведут через деревню, они просят: «Мать, дай хлэба... Хлэба...». Меня поражало, что крестьяне выходили из хат и давали им — кто кусок хлеба, кто картофелину... Мальчишки бежали за колонной и бросали камни... А женщины плакали...
Мне кажется, что я прожила две жизни: одну — мужскую, вторую — женскую...».
***
«После войны... Человеческая жизнь ничего не стоила. Один пример... Еду после работы в автобусе, вдруг начались крики: «Держите вора! Держите вора! Моя сумочка...». Автобус остановился... Сразу — толкучка. Молодой офицер выводит на улицу мальчишку, кладет его руку себе на колено и — бах! ломает ее пополам. Вскакивает назад... И мы едем... Никто не заступился за мальчишку, не позвал милиционера. Не вызвали врача. А у офицера вся грудь в боевых наградах... Я стала выходить на своей остановке, он соскочил и подал мне руку: «Проходите, девушка...». Такой галантный...
Это я сейчас вспомнила... А тогда мы все еще были военными людьми, жили по законам военного времени. Разве они человеческие?».
***
«Вернулась Красная Армия...
Нам разрешили раскапывать могилы, искать, где наших родственников постреляли. По старым обычаям рядом со смертью надо быть в белом — в белом платке, в белой сорочке. До последней своей минуты я это буду помнить! Люди шли с белыми вышитыми рушниками... Одетые во все белое... Где они его взяли?
Копали... Кто что нашел — признал, то и забрал. Кто руку на тачке везет, кто на подводе голову... Человек долго целый в земле не лежит, они все там перемешались друг с другом. С глиной, с песком.
Сестру не нашла, показалось мне, что один кусочек платья — это ее, что-то знакомое... Дед тоже сказал — заберем, будет что хоронить. Тот кусочек платья мы в гробик и положили...
На отца получили бумажку «пропал без вести». Другие что-то получали за тех, кто погиб, а нас с мамой в сельсовете напугали: «Вам никакой помощи не положено. А может, он живет припеваючи с немецкой фрау. Враг народа».
Я стала искать отца при Хрущеве. Ответили мне при Горбачеве: «В списках не значится...». Но откликнулся его однополчанин, и я узнала, что погиб отец геройски. Под Могилевом бросился с гранатой под танк...
Жаль, что моя мама не дождалась этой вести. Она умерла с клеймом жены врага народа. Предателя. И таких, как она, было много. Не дожили до правды. Я сходила к маме на могилку с письмом. Прочитала...».
***
«Я — учитель истории... На моей памяти учебник истории переписывали три раза. Я учила детей по трем разным учебникам...
Спросите нас, пока мы живы. Не переписывайте потом без нас. Спросите...
Знаете, как трудно убить человека. Я работала в подполье. Через полгода получила задание — устроиться официанткой в офицерскую столовую... Молодая, красивая... Меня взяли. Я должна была насыпать яд в котел супа и в тот же день уйти к партизанам. А я уже к ним привыкла, они враги, но каждый день ты их видишь, они тебе говорят: «Данке шон... Данке шон...». Это — трудно... Убить трудно... Убить страшнее, чем умереть...
Я всю жизнь преподавала историю... И всегда не знала, как об этом рассказать. Какими словами...
...У меня была своя война... Я прошла длинный путь вместе со своими героинями. Как и они, долго не верила, что у нашей Победы два лица — одно прекрасное, а другое страшное, все в рубцах — невыносимо смотреть. «В рукопашной, убивая человека, заглядывают ему в глаза. Это не бомбы сбрасывать или стрелять из окопа», — рассказывали мне.
Слушать человека, как он убивал и умирал, то же самое — смотришь в глаза...».
«Ужас не коллекционирую. Этого вокруг полно: Господи, сегодня телевизор включил — с ума можно сойти»
— Рассказы этих женщин о войне внутренне вас переворачивали, чувства, доселе неведомые, вас переполняли, эмоции от этих исповедей зашкаливали?
— Ну а вы как думаете?
— Полагаю, что да, потому что меня, когда читал, особенно куски, которые поначалу в книгу не вошли, все это проняло, определенный переворот в сознании был...
— Это все иначе опять-таки, потому что мы заезженными истинами обходимся и в мире банальностей живем — в основном. Газеты, телевидение — они только тонкий верхний слой вещей схватывают, а моя задача была более глубокий пласт взять, что поняла сразу. Благодарить за это свое деревенское детство должна, потому что в деревне жизнь в культуру, скажем так, не завернута, она подлинная — там люди говорят то, что действительно пережили, а не то, что где-то прочли, поэтому еще тогда, в детстве, я слышала, что жизнь трагична, что любовь — страшная вещь, что какая-то бездна есть. Не то чтобы я сознательно наблюдениями запасалась, но какое-то предчувствие этих вещей было, и к женщинам не с готовыми вопросами и ответами я приходила, а как молодая, совершенно наивная журналистка. Кстати, вот как вы у меня, я никогда интервью не беру — мы просто о жизни разговариваем. Я к человеку и пять, и семь раз прихожу...
— ...с диктофоном?
— Да, чтобы подлинности добиться, только с диктофоном надо. Если с блокнотом, с бумажкой придете, все подминать под себя будете, под свой ритм, под свою внутреннюю музыку, и, конечно, когда мы говорить начинали, я мельчайшие подробности выспрашивала... Себе велела забыть все, что о войне читала, только вот эту подлинность жизни слушать, которая, к счастью, не отретуширована, литературно не обработана, ведь, знаете, хуже всего интеллигентные люди говорили. Из их монологов все торчало: Шолохов, Бакланов — ну все...
— И Бакланов тоже?
— А почему бы и нет? Они очень популярны были, оба хорошие писатели, но все равно это не свое было, понимаете, а надо, чтобы человек раскрылся. Путь к этому, в общем-то, долог — нужно с ним подружиться — не говоря уже о том, что по-новому спросить надо, чтобы новое услышать. Я же ужас не коллекционирую... Этого вокруг полно — Господи, сегодня телевизор включил, чашку кофе взял, с ума можно сойти, да? Каждый день что-нибудь да вбросят — сегодня это, завтра то... Нет, я этого не приемлю, ведь весь смысл литературы в том, чтобы из того, что есть наша жизнь, какие-то сокровенные смыслы вытащить, и только когда понимание этого сложилось, вы к человеку приходите и с ним о каких-то глубоких вещах говорить начинаете. И знаете, такого разговора каждый ждет, потому что у каждого из нас много вещей есть...
— ...невысказанных...
— Не то чтобы не высказанных — таких, которые не проговорили, из собственной жизни не вычленили, смысл в которых найти пока не можем, и когда собеседник появляется, некое столкновение происходит. Человек на тебя смотрит, твой интерес видит и открываться начинает: вот как я думаю... Я же совершенно молода была и неопытна, а мои героини — уже пожилые женщины, их никто никогда не слушал, об этом не спрашивал. Кстати, день-два лишь на то уходил, чтобы они написанное в газетах и рассказанное мужчинами пересказывать перестали: мужской канон с них содрать — это самое сложное было.
— Во время этих бесед вы плакали часто?
— Дались вам эти слезы! Плакала... Неужели вы думаете, что, как истукан, приходила и записывала? Что чувствовала, плакала ли?.. Ну я же живая — конечно, все было.
«Когда в Афганистане убитых наших ребят увидела, в обморок просто упала»
— Вы понимали тогда, что в бездну ныряете, в которую до вас никто, в общем-то, не погружался?
— Нет, об этом даже не размышляла. Знаете, когда серьезное дело делаешь, с маленькими и большими предшественниками мериться совсем не надо — нужно просто по ниточке своего интереса за тем идти, что волнует, что ты понять хочешь, и я вовсе не представляла, что лауреатом Нобелевской премии стану, мне это в голову не приходило — я адекватный все-таки человек. Мне просто собеседника понять интересно, разговаривать интересно, с этим потом жить.
Из книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».
«Мы вместе с мужем ушли на фронт. Вдвоем.
Я многое забыла. Хотя вспоминаю каждый день...
Кончился бой... Не верилось тишине. Он гладил траву руками, трава мягкая... И смотрел на меня. Смотрел... Такими глазами...
Они ушли группой в разведку. Ждали их два дня... Я не спала два дня... Задремала. Просыпаюсь от того, что он сидит рядом и смотрит на меня. «Ложись спать». — «Жалко спать».
И такое острое чувство... Такая любовь... Сердце рвется...
Я многое забыла, почти все забыла. А думала, что не забуду. Ни за что не забуду.
Мы уже шли через Восточную Пруссию, уже все говорили о Победе. Он погиб... Погиб мгновенно... От осколка... Мгновенной смертью. Секундной. Мне передали, что их привезли, я прибежала... Я его обняла, я не дала его забрать. Хоронить. В войну хоронили быстро: днем погиб, если бой быстрый, то сразу собирают всех, свозят отовсюду и роют большую яму. Засыпают. Другой раз одним сухим песком. И если долго на этот песок смотреть, то кажется, что он движется. Дрожит. Колышется этот песок. Потому что там... Там для меня еще живые люди, они недавно были живые... Я вижу их, я с ними разговариваю... Не верю... Мы все ходим и не верим еще, что они там... Где?
И я не дала его тут же хоронить. Хотела, чтобы еще была у нас одна ночь. Сидеть возле него. Смотреть... Гладить...
Утром... Я решила, что увезу его домой. В Беларусь. А это — несколько тысяч километров. Военные дороги... Неразбериха... Все подумали, что от горя я сошла с ума. «Ты должна успокоиться. Тебе надо поспать». Нет! Нет! Я шла от одного генерала к другому, так дошла до командующего фронтом Рокоссовского. Сначала он отказал... Ну ненормальная какая-то! Сколько уже в братских могилах похоронено, лежит в чужой земле...
Я еще раз добилась к нему на прием:
— Хотите, я встану перед вами на колени?
— Я вас понимаю... Но он уже мертвый...
— У меня нет от него детей. Дом наш сгорел. Даже фотографии пропали. Ничего нет. Если я его привезу на родину, останется хотя бы могила. И мне будет куда возвращаться после войны.
Молчит. Ходит по кабинету. Ходит.
— Вы когда-нибудь любили, товарищ маршал? Я не мужа хороню, я любовь хороню.
Молчит.
— Тогда я тоже хочу здесь умереть. Зачем мне без него жить?
Он долго молчал. Потом подошел и поцеловал мне руку.
Мне дали специальный самолет на одну ночь. Я вошла в самолет... Обняла гроб... И потеряла сознание...».
Ефросинья Григорьевна Бреус, капитан, врач».
— Когда книжка уже вышла, отстраненно, не как автор, ее читать вы пробовали?
— Нет, ну как же я от нее освободиться могла? Это ведь все десятки раз прослушивалось во мне, проговаривалось, поэтому тут не отстранишься — это уже часть тебя.

— Для вас женщины на войне — это всегда трагедия?
— Своими вопросами вы меня убьете. Почему вы так прямолинейно спрашиваете?
Ну что значит трагедия? Женщина на войне — это совершенно новый взгляд на войну, это подсветка вещам, которые вроде бы давно известны, но выясняется, ни черта мы о них не знаем. Оказалось, что это и красиво, и страшно, и любовь там, и ненависть, и ужас, конечно. Я этими женщинами и восхищалась, и страх они мне иногда своим отношением к убийству себе подобных внушали — я же уже из другого времени была, и для меня мертвый человек, тем более не зверем, не молнией, не стихией, не роком, а другим человеком убитый, — это ненормально было, понимаете? Потом, лет через 20 (ну, может, меньше), я в Афганистан поехала и, когда убитых наших ребят увидела, в обморок просто упала — это так страшно! Я представила: вот этот парень в морге лежит, а где-то мама его ждет, мне пустую койку показывают, а там по диагонали конверты — еще два-три дня письма идут. Вы понимаете? Это все вещи, не так легко называемые...
(Продолжение в следующем номере)

 Первый премьер-министр независимой Украины Витольд ФОКИН: «У меня немецкий «Вальтер» был, у него — советский «ТТ». Первым стрелял он — пуля в кирпичную стенку попала, и осколком мне едва артерию не пробило. Я стрелять не стал...»
Первый премьер-министр независимой Украины Витольд ФОКИН: «У меня немецкий «Вальтер» был, у него — советский «ТТ». Первым стрелял он — пуля в кирпичную стенку попала, и осколком мне едва артерию не пробило. Я стрелять не стал...» Глава Фонда Александра Литвиненко публицист Александр ГОЛЬДФАРБ: «Политики и военные США прямо говорят: «Мы бы дали Украине оружие, но где гарантии, что его не продадут налево?»
Глава Фонда Александра Литвиненко публицист Александр ГОЛЬДФАРБ: «Политики и военные США прямо говорят: «Мы бы дали Украине оружие, но где гарантии, что его не продадут налево?» Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «От смерти меня, дочь советского офицера, настоятельница женского монастыря в Ивано-Франковске спасла»
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «От смерти меня, дочь советского офицера, настоятельница женского монастыря в Ивано-Франковске спасла» Экс-разведчик КГБ сокурсник Путина Юрий ШВЕЦ: «Если выяснится, что Кремль отравил Хиллари Клинтон, это, по сути, война между США и Россией»
Экс-разведчик КГБ сокурсник Путина Юрий ШВЕЦ: «Если выяснится, что Кремль отравил Хиллари Клинтон, это, по сути, война между США и Россией»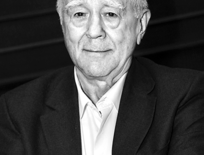 Все могут прожить и без нас, но мы не сможем
Все могут прожить и без нас, но мы не сможем Исполняющая обязанности замглавы Нацбанка Украины Екатерина РОЖКОВА: «Сегодня 102 банка работают, выведено с рынка 80, но наказания пока никто не понес. В Украине нет специализированной структуры, которая бы расследовала банковские преступления».
Исполняющая обязанности замглавы Нацбанка Украины Екатерина РОЖКОВА: «Сегодня 102 банка работают, выведено с рынка 80, но наказания пока никто не понес. В Украине нет специализированной структуры, которая бы расследовала банковские преступления». От зрады до перемоги: как не позволить политике в Facebook испортить вам сон и аппетит?
От зрады до перемоги: как не позволить политике в Facebook испортить вам сон и аппетит? Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги